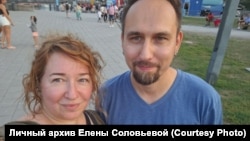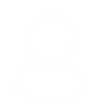На журналистку из Сыктывкара Елену Соловьеву, уехавшую три года назад с семьей в Канаду, возбудили в России уголовное дело по статье о "неисполнении обязанностей иностранного агента" и объявили в розыск. Ранее, в 2024 году, суд дважды оштрафовал её по аналогичной административной статье. В интервью "Idel.Реалии" Соловьева рассказывает о своей журналистской работе в Коми, поездках в Шиес, давлении в республике на независимую прессу и эмиграции в Канаду.
"Я видела целые озера нефти, видела мертвых птиц, видела лес, который был залит нефтью"
— Расскажите для начала немного о себе.
— Я родилась в 1975 году в Украине, в Житомирской области, в старинном — даже древнем — городе Коростень (до 1917 года город назывался Искоростень и под этим именем упоминался ещё в "Повести временных лет" — "Idel.Реалии"). Этому городу больше 1300 лет. Но жила я там мало — когда мне было полгода, мой папа после учебы в Лесотехнической академии в Ленинграде получил распределение на север, в Коми. Так что я росла в тайге, в небольшом поселке Ёдва в Удорском районе республики (Ёдва находится в 226 км от Сыктывкара — "Idel.Реалии").
Училась сначала на историческом факультете Сыктывкарского госуниверситета, но не доучилась. В 2018 году я поступила в Санкт-Петербургский институт культуры, где изучала культурологию. Отучилась четыре курса, но закончить не смогла из-за присвоенного мне статуса "иностранного агента" (Минюст России признал Соловьеву "иноагентом" в октябре 2021 года — "Idel.Реалии"). В 2022 году я еще продолжала учиться дистанционно, находясь уже в Канаде, сдала сессию на отлично, но потом контакты с институтом просто прервались. Сейчас я планирую поступать в местный университет, придется начинать всё с начала.
— У вас остались какие-то связи с Украиной?
— В Коростень я ездила каждый год, каждое лето проводила там у бабушки. Как-то раз родители не смогли меня из-за работы вовремя забрать с каникул, и я какое-то время даже училась в коростеньской школе №9. И когда стала уже взрослой, продолжала ездить в Коростень к тете — уже со своими детьми.
— В одном из ваших интервью прошлых лет вы сказали: "Я регулярно зажмуриваюсь и прыгаю во что-то новое". Эта черта характера и привела вас в журналистику?
— Думаю, да. Я очень люблю все новое, мне интересно. Я очень любопытная, любознательная. И это не изменилось с годами. В журналистику я пришла в начале нулевых годов, примерно тогда же и завела свой блог в "ЖЖ".
— Вы проработали журналистом в Коми очень долго — работали, насколько известно, в издании "Красное знамя", вели программу на местном телеканале "Юрган", редактировали еженедельник "Твоя параллель". Что вы можете сказать о ситуации, которая складывалась в республиканской медиасфере?
— Уже к концу нулевых годов в Коми у журналистики была тяжелая обстановка. Все независимые издания начинали схлопываться. Например, в 2006 году была фактически закрыта газета "Зырянская жизнь". Это было независимое издание, ориентировавшееся по стилю, наверное, на тогдашний "Коммерсант". Свое название оно взяло от одной из первых газет в Коми, основанной ещё в 1918 году. "Зырянская жизнь" нашего времени публиковала очень много критических статей, расследований, её авторы делали очень интересные репортажи.
Такое издание, как "Красное знамя", в котором я работала, тоже в какой-то момент закрылось — ему просто перекрыли кислород.
— Вам пришлось уйти?
— В сентябре 2012 года я начала работать главным редактором издания "7х7". Оно уже было известно как оппозиционное, независимое СМИ — и мне было интересно в нем поработать. Это воспринималось как какой-то глоток свежего воздуха, потому что ты работаешь в издании, в котором тебе не надо идти на какие-то сделки с совестью. Потому что тогда в других редакциях в Коми обстановка становилась все более и более душной. Они постепенно переходили ко все более и более жесткой цензуре.
В "7х7" я проработала около трех лет, а потом ушла в декретный отпуск. Вернулась в журналистику во второй половине десятых годов — уже в качестве независимого автора.
— Каковы были в то время взаимоотношения журналистов с местной властью? Власть огрызалась в основном на антикоррупционные расследования, на критику состояния экологии?
— Да, у нас ведь регион нефтедобычи. И, естественно, мне достаточно давно довелось столкнуться с экологическими проблемами и с тем, как это все устроено — в частности, как устроена у нас нефтедобыча: все, что дает нефтедоллары государству и негосударственным компаниям.
У государства с такими компаниями как бы негласная договоренность: вы нам — огромную долларовую выручку, а мы вам — возможность сокращать (как угодно) издержки на социалке, на экологии. Вы не платите штрафы, вы не меняете прогнившие нефтепроводы; словом, загрязняете окружающую среду, как хотите — и с вас спроса нет.
И это все очень страшно на самом деле. Когда это далеко от тебя, ты не понимаешь, что такое нефтеразлив. Когда я поехала в свою первую поездку по нефтеразливам — это была поездка в 2016 году вместе с Greenpeace — меня мой хороший друг, эколог предупредил, что после этого у наблюдателя может случиться серьезная депрессия.
И действительно — я видела целые озера нефти. Я видела мертвых птиц. Я видела лес, который был залит нефтью на много гектаров; по следам на деревьях было видно, что высота разлива была больше метра. Огромное количество разлитой нефти. То, что это ужасно вредит природе, я думаю, даже объяснять не нужно.
— И никакой рекультивации?
— Там, где мы были, была такая "рекультивация" — мигрантов просто сгоняют вычерпывать лопатами из ручьев нефть в какие-то корыта. И эти же мигранты перед приездом проверяющей комиссии покрасили березы, которые там были, в белый цвет, чтобы не так бросалось в глаза, до какого уровня поднялась нефть. И так как у них, видимо, осталась краска, они еще и ели покрасили в белый цвет. Это выглядело и печально, и комично одновременно.
— С таких репортажей начались ваши проблемы с властями?
— В общем, да. Нефть ведь — это политика. Если ты как-то начинаешь очень нехорошо писать про нефтянку, то тобой уже начинают интересоваться соответствующие органы. Хотя в первое время они интересовались не очень сильно. Времена были тогда еще "травоядные".
Так, до нас доходили какие-то слухи, что, мол, "мы [органы] вами интересуемся, так что вы там сильно не расслабляйтесь; но мы пока вас трогать не будем". Как-то вот так.
Проблемы начались, конечно, с Шиеса.
"Шиес — абсолютно фантастическая вещь, очень важная в истории России"
— Ваши коллеги, активисты называли вас "главным автором", который писал о протестах в Шиесе, упомянув, что вы ездили туда более 30 раз.
— Думаю, я ездила туда гораздо больше. Впрочем, не считала. Но действительно — в течение двух лет я постоянно была на связи с большинством участников протестов, когда они проходили, да и после этого.
Я стала "специалистом по Шиесу" не только потому, что это было мне очень интересно, но и потому, что мне просто повезло жить в Сыктывкаре. И я на тот момент была независимым журналистом, который может писать для многих изданий. А Сыктывкар был хабом, через который подавляющее большинство журналистов попадало на Шиес.
Мы всё время ездили группами. Это были и активисты, которые ехали туда на продолжительное время. Были люди, вся активность которых заключалась в том, что они собирают и везут в лагерь какие-то необходимые вещи. Там были журналисты, ученые, социологи. Словом, у протестного лагеря на Шиесе было много уровней поддержки в обществе.
Протест на Шиесе — это без преувеличения феномен. Его можно много и долго изучать — прежде всего, социологам. И можно увидеть, как через экологические протесты отрабатываются политические и гражданские практики. Шиес — это абсолютно фантастическая вещь, очень важная в истории России.
— Можно сравнить его с протестами на Куштау в Башкортостане?
— Да, это важные, знаковые вещи. На месте современных политиков я бы очень внимательно смотрела на все такие экологические и социальные протесты. Оппозиционно настроенные политики ведь сейчас зачастую не могут прямо высказаться по многим именно политическим темам. Но они вполне могут высказываться через неполитические протесты — так сказать, "тренировать свою мышцу" на этих вещах.
Ещё отмечу, что через такие известные на всю страну протесты, как на Шиесе, Куштау, в Хабаровске начинала налаживаться новая коммуникация по всей России между людьми. Ведь нужно понимать, что в этих протестах было очень много "неофитов" — людей, которые не считали себя политизированными и которые никогда никуда протестовать не ходили. А тут они пошли — и вышли из этого протеста уже совершенно другими людьми, с другим опытом.
Протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области начались в 2018 году — после того как стало известно, что на полигон планируют свозить твёрдые бытовые и промышленные отходы из Москвы и ряда других регионов западной части России.
Строительство полигона должно было вести ООО "Технопарк", учрежденное департаментом ЖКХ Москвы. Экоактивисты и местные жители указывали, что поскольку строительство предполагается в болотистой местности, оно представляет опасность для жителей региона, так как приведет к загрязнению поверхностных и подземных источников воды.
В конце 2018 года активисты поставили около стройки первый вагончик для круглосуточного дежурства, на которое приезжали люди из близлежащих поселений и из всего региона. Регулярно происходили столкновения защитников Шиеса с сотрудниками частного охранного предприятия: активисты пытались препятствовать разгрузке топлива и стройматериалов, а также заявляли об избиениях и нанесении им травм.
Начавшись в июле 2018 года как локальная акция местных жителей, протест к 2019 году стал центром "антимусорных" выступлений. Во втором квартале 2019 года 34 из 56 экологических протестов в стране были объединены темой Шиеса; акции протеста в поддержку протестующих на Шиесе прошли в 30 регионах России.
Четвертого февраля 2021 года лагерь активистов "Ленинград" на станции Шиес был уничтожен представителями силовых структур; палатки и прочее имущество, а также запасы продуктов пропали. 18 февраля были разгромлены уже некоторое время пустовавшие народные посты "Костёр" и "Крепость". Пост "Баня" был разграблен и сожжён; на нем полиция задержала пятерых активистов, которых потом обвинили по статье о самовольном занятии лесных участков.
Второго июня 2020 года правительство Архангельской области расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о строительстве полигона.
Протесты завершились летом 2021 года — после того как Арбитражный суд Северо-Западного округа в Петербурге оставил в силе решения судов в Архангельске и Вологде, согласно которым строительство полигона ТБО на станции незаконно и постройки должны быть снесены.
После этого решения инициативная группа "Чистая Урдома" объявила о завершении протестов, признав снос полигона необратимым.
— Какие именно проблемы с властями начались у вас в ходе поездок на Шиес?
— Сыктывкар — городок маленький, все друг друга знают. И мне стали сообщать разные, не связанные между собой люди, что на меня завели папку наши ФСБ-шники.
Был такой момент, по-моему, летом 2019 года: я как раз ехала на Шиес, и моему мужу Николаю начали звонить ФСБ-шники и настойчиво приглашать его на встречу. Он тогда от них как-то отмотался — сказал, что страшно занят, ну и вообще: если нет повестки, то мы, значит, и не идем. И потом мне один человек сообщил, что это из-за моей деятельности, из-за того, что я езжу на Шиес.
Собственно, как я понимаю, на меня нацелились тогда не только из-за Шиеса, но и из-за других моих публикаций — к примеру, из-за репортажей с митингов в поддержку Алексея Навального. После одного из них, в январе 2021 года, на меня завели административку и недели три пытались мне вручить повестку о вызове в полицию. Я её пыталась не брать, а они долбились в дверь и утром, и днем, и вечером — и мы все время от них прятались. Утром, когда мы собирали младшего ребенка в детский сад, мы надевали на него наушники, чтобы он не слышал этой долбежки. И, в конце концов, ребенок начал просыпаться по ночам, плакать, кричать — и я решила пойти в полицию "сдаться".
В суде меня оштрафовали на 10 тысяч рублей за "участие в несанкционированном публичном мероприятии", но в апелляции нам удалось доказать, что я была на митинге как журналистка — и штраф отменили.
Надо сказать, когда нам поступили первые такие сигналы от друзей, что нами очень сильно интересуется ФСБ после Шиеса, мы решили, что надо уезжать из России.
"Изучаемая в России история русскоцентрична"
— Вы больше 40 лет прожили и проработали в Коми. И хотя по национальности вы русская, вы, как я понимаю, очень сильно привязаны к народу коми, его культуре, истории.
— Да, это так. Отмечу, что мой муж — коми. Но дело и в том, что еще в детстве я попала под какое-то огромное очарование народа коми, его мифологии, сказок. У меня дома была такая книга — "Волшебный камень и книга белой совы". Её написал бывший узник ГУЛАГа Александр (Рафаил) Клейн, который сидел в лагере в Воркуте, а потом долго жил и работал в Коми. Эта книга была написана по мифам и по сказкам коми. И она была совершенно магическая, она так меня очаровывала.
Однажды я попала на лекцию нашего замечательного историка Михаила Рогачева об истории народа коми. Он рассказывал совершенно фантастические вещи. И меня тогда поразило, насколько наша история, которую мы изучаем в школе, русскоцентрична. Поразило, что мы, оказывается, ничего не знаем об истории коми — равно как и не знаем ничего об истории башкир, истории многих народов Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.
— Что вы обнаружили для себя, изучая историю коми?
— Мне часто доводилось сталкиваться с комментаторами, которые говорили, что если бы, мол, русские не пришли в Коми, то местное население так бы и было отсталым, занималось бы до сих пор лишь охотой и рыболовством, "стреляло бы белок деревянными стрелами". А пришли русские, начали добывать нефть, принесли коми технологии, науку и просвещение…
И в этом ужасном искажении мы существуем много лет. И даже некоторые местные жители тоже так думают. А ведь это совершенно не так. Коми всегда были крутыми металлургами, поскольку в этом крае издревле добывали железо.
С IX-X веков территория коми была зоной активнейшей торговли мехами, пушниной. Многочисленные археологические находки в могильниках коми показывают, сколько товаров прибывало туда со всех сторон света, в основном по рекам и волокам. Была налаженная связь с Волжской Булгарией, с Русью.
И ещё у коми потрясающая мифология.
— Из этого вашего увлечения историей и мифологией коми родился подкаст "Вöр кывъяс | Голоса леса"?
— Нет, у меня ещё до этого были проекты по этой тематике. Один, посвященный истории, назывался "Сокровища Пармы". А другой проект назывался "Врата биармии" ("Биармия" — известная по сагам и летописям историческая область на севере Восточной Европы — "Idel.Реалии") — про древние сказания, мифологию и различные верования народа коми. Я собиралась даже монетизировать эти проекты, но все приостановилось после того, как у меня начались проблемы с властями. Возможно, я вернусь к этим задумкам, но уже в других форматах. На это нужно время.
А проект "Вöр кывъяс | Голоса леса" я начала этим летом. Мне помогли получить на него небольшой грант. Он выходит на YouTube, Spotify и на Apple Podcast. Пока вышло четыре выпуска, и дальше я его буду развивать, буду пытаться его как-то монетизировать, потому что на что-то надо жить.
— В аннотации подкаста сказано, что он "создан в рамках антиколониального дискурса".
— Да, потому что, как я уже говорила, изучаемая в России история русскоцентрична. А ведь Россия, которую мы знаем и любим, должна стать настоящей федерацией. Хотелось бы очень этого. Это страна многих народов. Я считаю, не должно быть такого, что есть какой-то один главный народ, а все остальные — ну так себе, "младшие братья".
— В марте прошлого года в Сыктывкаре обсуждали проблемы нехватки комиязычных кадров в прессе, образовании, госучреждениях. Как, по вашим наблюдениям, в республике обстоит дело с изучением и употреблением родного языка, языка коми?
— Язык коми в республике — один из государственных, но ведь обязательность его изучения в школах была отменена в 2018 году, как и во всех других национальных республиках в России.
Я бы сказала, что дела с сохранением языка коми обстоят сейчас очень плохо. Есть люди, которые говорят: "Если вы хотите сохранить свой язык, то сохраняйте, а если не сохраняете, значит не больно он вам и дорог". Но вопрос в том, где ты действительно будешь этот язык применять. Сфера его употребления постоянно сужается, даже на бытовом уровне.
Численность населения Коми по итогам Всероссийской переписи населения 2020/2021 составила почти 738 тыс. человек, в том числе 396,3 тыс. женщин и 341,6 тыс. мужчин. 22% общего населения республики имеют коми национальность, 17% владеют коми языком. В Сыктывкаре из населения 233,9 тыс. человек к коми себя причислили 19%, говорят на коми языке 10% жителей города.
Согласно переписи 2020/2021, в России свыше 143 тысяч человек назвали себя коми. В 2010 году число таковых было выше — свыше 228 тысяч. Это не включает коми-пермяков. Между двумя последними переписями количество представителей коми сократилось на 22%.
В семьях коми многие разговаривают по-русски. Например, родители моего мужа разговаривали с детьми на русском языке, потому что они думали: "Ну, куда он с одним языком коми пробьется в жизни? Ему же нужно будет учиться, потом строить карьеру, а это всё на русском языке". И вот так язык постепенно и теряется, шаг за шагом.
Хотя в последние годы я наблюдала всплеск интереса у молодых коми к родному языку. Я знаю многих таких молодых интеллектуалов, которые хорошо говорят на языке коми и считают, что нужно знать свою историю, литературу, что нужно развивать родной язык.
— СМИ писали, что в октябре 2023 года на заседании Госсовета Коми депутату не позволили задать вопрос на родном языке. А в феврале 2024 года в Госсовете отказались рассматривать законопроект о выступлении депутатов на родном языке. То есть язык не сам по себе умирает, ему ещё и не дают сохраняться и развиваться?
— Да, ему "помогают" умереть. Я помню, в 2021 году был большой конфликт в суде, когда активист Алексей Иванов стал на заседании говорить на языке коми — и судья была очень возмущена, требовала, чтобы он говорил по-русски.
И ещё было очень много забавных моментов, когда, например, полицейские подходили к активистам, выступавшим на митингах и пикетах, спрашивали что-то у них, а человек отвечал им на языке коми. Полицейские, как правило, языка не знали.
— После начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году представители ряда национальных движений, эмигрировавшие из России, выдвинули лозунг отделения своих республик от РФ, лозунг достижения полной независимости. Наверное, такие эмигранты есть и из Коми? Что вы по этому поводу думаете?
— Есть люди, которые считают, что Коми с её богатствами и со всем прочим неплохо было бы отделиться. Но это все-таки достаточно маргинальный дискурс. Коми ведь в составе России уже достаточно давно, с XIV-XV веков, да и до этого с Русью были очень давние связи. Да и куда отделяться-то? Выхода к морю у республики нет, с другими государствами она не граничит. Нет, думаю, в Коми почти никто отделяться не хочет, но, безусловно, люди хотят большей автономии от центра.
Я сейчас живу в Квебеке, который тоже не раз хотел отделиться от Канады, устраивал референдум по этому поводу, но так и не отделился. В Канаде ведь действительная, а не бумажная федерация — и провинции имеют очень много прав, на которые никто не покушается.
Но ещё хотела бы сказать, что людей на разговоры об отделении от России толкает, прежде всего, сама федеральная власть, преследуя, например, активистов, которые выступают в защиту родных языков, своей национальной культуры, истории своих народов. Например, в январе нынешнего года ФСБ включила в реестр "террористических" организаций издание Komi Daily. А это просто проект, который писал о том, что происходит в республике, рассказывал об истории и культуре Коми. И подобных случаев в национальных республиках очень много.
"В Канаде не чувствуется такого разрыва по уровню жизни между провинцией и мегаполисами, как это чувствовалось в России"
— Расскажите подробнее о вашем отъезде из России.
— Как я уже говорила, к началу двадцатых годов мы уже серьезно задумывались об этом. Мой муж собирался писать докторскую диссертацию где-нибудь за границей. Его пригласили в [провинцию] Квебек, в университет в городе Труа-Ривьер. В июне 2021 года он уехал. Предполагалось, что я, когда оформлю все документы, выеду с детьми к нему. Но из-за ковида, из-за многих бюрократических проволочек этот процесс сильно затянулся.
В октябре 2021 года меня объявили "иноагентом". Я не могу сказать точно, за что мне дали этот статус. Но так как в один день со мной его дали нескольким журналистам, сотрудничавшим с Радио Свобода и его проектами, то, видимо, дело было связано с этим.
Так или иначе, после этого стало понятно, что нужно уезжать как можно быстрее. А документы всё ещё делались и делались. И тут наступила война.
— Как вы восприняли начало войны? У вас ведь, как вы говорили, родственники в Украине.
— Первые дни я просто рыдала. Война — это всегда страшно. Мне кажется, даже если бы у меня в Украине никого не было, я бы всё равно встретила эту агрессию с такими чувствами.
Но, конечно, мне было страшно за родных в Коростене. Я постоянно с ними созванивалась, списывалась. Я переживала за них, за Коростень ещё и потому, что там находится железнодорожный узел, и поэтому его будут бомбить так же сильно, как это было во время Второй мировой войны. Тогда город три раза переходил из рук в руки.
— Когда вам все же удалось уехать?
— Получилось улететь уже в марте 2022 года. На таможне в Домодедово нас долго держали, опрашивали в отдельной комнате, но в итоге позволили вылететь. Мы прилетели в Турцию, где пробыли два месяца. И только потом прилетели в Монреаль, а оттуда приехали в Труа-Ривьер.
Этот городок находится точно посередине между столицей провинции Квебек и Монреалем. И пока мы счастливо живем здесь. Городок не очень большой, но тут есть университет, в котором учится и работает мой муж.
— Университет предоставил вам жилье или приходится его снимать?
— Жилье мы снимаем, как это делают здесь очень многие люди. Правительство различными мерами старается как-то удерживать цены на жилье на более-менее приемлемом уровне. Поэтому то, сколько мы платим за жилье, сравнимо с квартплатой за жилье, которое у нас было в собственности в России. То есть это не какие-то безумные деньги. Так, за месяц за жилье мы платим примерно 800 канадских долларов (около 575 долларов США — "Idel.Реалии"). В эту сумму входит и сама аренда, и электричество, и вода.
Плата за аренду здесь ощущается примерно так же, как плата за коммуналку в России. По крайней мере, для нас — людей из провинции, с севера, где коммунальные услуги дороги, а зарплаты низкие.
Конечно, в Монреале стоимость жилья будет куда дороже, но там и зарплаты выше. Но, вообще, я бы сказала, что здесь, в Канаде, не чувствуется такого разрыва по уровню жизни между провинцией и крупными городами, мегаполисами, как это чувствовалось в России.
— Что с вашим статусом? Вы подали заявление на политическое убежище? Как скоро его можно будет получить?
— Подали такое заявление больше года назад. После того как окончательно поняли, что война — это надолго, и что вернуться в Россию, скажем, через два-три-четыре года не получится.
Вида на жительство ни у кого из нас не было — у мужа была студенческая виза, но она заканчивалась. Ее можно было продлить, но к тому времени мы понимали, что у нас есть реальная, не надуманная причина просить политическое убежище: я — "иноагент", у мужа — административки за участие в митингах и сотрудничество в образовательной сфере с организациями, объявленными в России "нежелательными". Старшего сына на родине вообще ждала повестка в армию.
Но получить политубежище — это не такое быстрое дело.
— Чем вы занимаетесь, работаете где-то?
— Поскольку Квебек — это франкоязычная провинция, я сперва долгое время училась на курсах "францизации". Это не только курсы французского языка, но и в целом программа адаптации иммигрантов в Квебеке. Потом я пошла работать в магазин кассиром и проработала там почти два года.
Иммигрантам всегда и везде сложно получить хорошую работу. Канадский работодатель может брать на работу мигранта только в том случае, если на эту работу не претендует никто из местных жителей.
Я подрабатываю редактором в некоторых СМИ, пишу тексты на французском языке для канадских медиа. Хочу продолжать писать о России, о правах женщин, о состоянии экологии. И развивать свои проекты об истории и культуре Коми.
— Как привыкают к жизни в эмиграции ваши дети?
— Когда мы уезжали, старшему сыну оставался всего год до призывного возраста. Уже шла война, я очень боялась за старшего и в первую очередь хотела вывезти его. Но, слава Богу, я вывезла обоих.
Дети — существа всё-таки более адаптивные. У них здесь уже есть друзья, они учатся в хорошей школе. И, знаете, местные школы мне чем-то напоминают то лучшее, что было в советских школах. В том плане, как здесь общаются с детьми, какая у них есть "продленка", детские лагеря, экскурсии и так далее. Здесь очень мощная забота о детстве — и дети в свою очередь обожают школу.
Ещё я думаю, что свою роль в адаптации детей и в целом нашей семьи сыграло то, что у нас сейчас есть кот. Его мы пару лет назад нашли под машиной, совсем маленьким и бесхозным. Мы его официально, за плату приобрели — так сказать, "усыновили", сделали все прививки. Мы с самого начала решили, что кот не должен быть "нелегалом". Отвезли его в специальную организацию "Société protectrice des animaux" ("Общество защиты животных"). Там кота проверили, не является ли он пропавшим, провели медосмотр, вакцинировали, чипировали и даже дали имя — Спенсер. Младший сын сказал: "Отлично, будет Спенсер Вокуев", по фамилии мужа.
Жизнь с котом всегда как-то легче. Бесхозных котов, кстати, здесь не так много, это редкость, но нам повезло.
— Думаете ли вы о возвращении в Россию? Если да, то на каких условиях?
— Пока нет, нам нравится здесь, хотя в Канаде, как и во многих странах, сейчас очень много проблем. Особенно после того, как президент США Трамп объявил тарифную войну ближайшим соседям. Конечно, мы хотим съездить в Россию, навестить друзей и родных. Но для этого, думаю, должна как минимум смениться власть; причем на смену должны прийти сторонники правового государства, люди, для которых будут важны интересы России, а не дворцы с яхтами и прогулки с товарищем Си Цзиньпинем.
Себя я "иноагентом" не считаю, но, кажется, если и есть в стране реальные иноагенты, то именно они сейчас у власти, к сожалению.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.